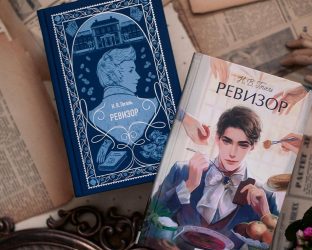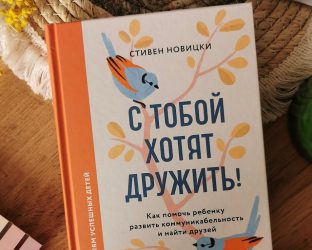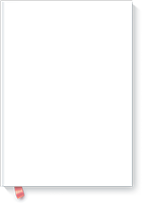Почему дети, оказавшиеся в ситуации травли, редко говорят об этом взрослым? А родители и учителя, даже замечая тревожные сигналы, не уверены — вмешиваться или нет? И почему до сих пор жив миф о том, что буллинг «закаляет характер»?
Лиля, расскажите, как вы пришли к теме травли?
Тема травли стала для меня важной, потому что я сама пережила ее в школе. В седьмом классе — в разгар раннего подросткового возраста — почти весь класс перестал со мной разговаривать, и я оказалась в абсолютно враждебной среде. А еще я влюбилась в мальчика, который участвовал в травле.
Было непросто, болезненно и оставило большой след. Я чувствовала, что меня не любят, что за спиной смеются. Всё время ждала подвоха. Взрослые, которые были рядом, никак не реагировали. Мама говорила: «Подожди, скоро ты перейдешь в другую школу», — но это не помогало, потому что мне приходилось каждый день находиться в супернеприветливой среде.

Лиля Брайнис — философ, социальный психолог и арт-терапевт с 10-летним опытом разработки и применения проективных инструментов.
Когда я начала работать с детьми и подростками, решила: как взрослый, я не допущу, чтобы ребенок оказался в такой ситуации. Это стало для меня внутренним профессиональным выбором: сначала я получила диплом преподавателя философии, затем работала учителем, а позже получила образование социального психолога. Моя магистерская диссертация была посвящена ябедничеству — эта тема тоже связана с травлей.
Работая в школе и детских лагерях, я внимательно следила за тем, что происходит между детьми. Если замечала признаки травли — сразу включалась всеми доступными способами, чтобы ее остановить. Потому что на личном опыте знаю, что это такое, как переживается, какие последствия оставляет и как долго человек может с ними справляться. Мне не хотелось, чтобы кто-то другой этот опыт пережил.
Что помогает вам видеть то, чего не замечают родители или педагоги?
Личный опыт и понимание, что за этим вообще надо смотреть. Травля — это не проблема конкретного ребенка, и уж тем более не обязательный этап развития — никому не нужно ее переживать.
Здесь главное — признать, что такое может быть, и что это может случиться с каждым. После начинаешь внимательно следить за тем, чтобы этого не случилось. Это становится фокусом твоего внимания, вне зависимости от того, чем ты занимаешься: ведешь ли уроки, организуешь летний лагерь или общаешься с детьми на переменах.
Вы говорите, что взрослые часто видят буллинг, но не распознают его. Почему это происходит?
Сегодня взрослые понимают, что травля — это проблема. Но не чувствуют себя достаточно компетентными, чтобы уверенно назвать происходящее травлей.
Родителям и педагогам нужен кто-то, кто посмотрит на ситуацию со стороны и скажет: «да, это оно» или «нет, показалось». Но почти всегда сомнения подтверждаются: тревога оказывается ненапрасной.
Хорошая новость в том, что взрослые начинают искать помощь, обсуждать, спрашивать. Значит, уже не остаются с проблемой один на один. А когда понимают, что столкнулись с травлей — готовы действовать. Или, по крайней мере, хотят понять, как.
С какими самыми частыми фразами и реакциями вы сталкиваетесь, когда к вам приходят взрослые с сомнениями: «а вдруг мне кажется»?
Люди, которые ко мне обращаются, после подтверждения их сомнений обычно соглашаются. И мы сразу переходим к разговору о том, что делать? Как и с какой позиции подойти и в какую сторону двигаться? Потому что гораздо важнее остановить происходящее и помочь всем участникам — не только жертве, но и агрессорам, и свидетелям.
Но я помню историю, которая произошла много лет назад. Я приехала в летнюю школу, где проходили обучение молодые учителя. Поделилась опытом, рассказала о том, что травля — серьезная проблема. Одна учительница спросила: «У меня в классе происходит всё, что ты описываешь, но когда я к ним подхожу, и агрессоры, и жертва говорят, что они “просто играют”. Значит, это не травля?» Конечно, это была она.
А здесь мы еще сталкиваемся с историей про ябедничество: дети часто не хотят включать взрослых, потому что внутри групповой динамики, даже такой деструктивной, обратиться за помощью к взрослому хуже, чем подвергаться насилию со стороны сверстников. Не говоря ничего взрослому, член группы сообщает другим участникам о своей лояльности и заявляет: «Я с вами. На все правила соглашаюсь».
Моя позиция простая: «Я запрещаю игры, которые осуществляются за счет того, что вы обижаете другого человека. Это плохая игра. Это вообще не игра». Игра — это деятельность, в которой всем весело, здорово и хорошо. А то, что жертва будет говорить: «со мной всё в порядке», улыбаться сквозь зубы и не признавать происходящего, — так это психологические механизмы защиты. Мы их давно знаем.
Какие сигналы однозначно указывают на то, что речь идет о травле, а не о «детских разборках»?
Интересный вопрос. Для начала стоит уточнить: что такое «детские разборки»? Если речь идет о конфликтах — это нормально. Люди должны друг с другом не соглашаться, спорить, ругаться, выяснять отношения, обижаться — это часть человеческого общения, она должна присутствовать.
Если неравенства сил нет, человек может за себя постоять, а в споре выигрывает то один, то другой — перед нами часть человеческой коммуникации. Если наблюдаем ситуацию систематического насилия одних людей по отношению к другим — это травля.
Что происходит с детьми, когда взрослые не замечают или отказываются признавать травлю?
Ничего хорошего. В ситуации травли один ребенок — или группа — занимает позицию силы или власти по отношению к тому, у кого этой силы и власти нет, и осуществляет насилие.
Взрослый здесь выступает большей силой, которая может остановить происходящее и начать менять искаженные, болезненные отношения в сторону взаимодействия, где все общаются друг с другом на равных. Почему это важно?
Агрессивное поведение организовывает отношения в группе и влияет на всех. Не только на агрессоров и жертв, но и на свидетелей: они понимают, что окружающая их среда — нездоровая, небезопасная. И нужно быть осторожным, чтобы тоже не оказаться на позиции жертвы.
Представьте боксерский ринг: на одной стороне — трое боксеров, на другой — человек со связанными за спиной руками. Очевидно, что это нечестно, так не должно быть. Травля — это то же самое. И только взрослый может остановить бой, снять перчатки, развязать руки, прекратить насилие. И организовать коммуникацию, в которой место в группе не нужно определять через силу и подчинение.
Что вы советуете делать взрослым, если они только начали подозревать, что ребенок подвергается буллингу?
Наблюдать за тем, что происходит, разговаривать. Часто у агрессоров своя правда: они, с одной стороны, по-другому не умеют, с другой — что-то защищают. Никто не хочет быть злодеем. Все хотят быть хорошими. Поэтому часто они рассказывают историю о том, что кого-то спасают, пытаются проучить, научить — то есть рационализация существует.
Здесь стоит опираться на признаки: повторяемость, агрессия, неравенство. Если они присутствуют — значит, это травля, и действовать нужно быстро, не затягивать.
Что категорически не стоит говорить или делать в такой ситуации?
Зависит от позиции, в которой находится взрослый — родитель, учитель, администратор. Но если говорить в общем — вот чего точно не стоит делать:
- Сразу обвинять агрессоров и говорить: «Это ужасные дети, их нужно выгнать». Гораздо эффективнее двигаться через «я знаю, что у вас есть какая-то правда, и понимаю, что вы на самом деле неплохие. Давайте разберемся в этой ситуации».
- Взывать к совести, обижать, обзывать. Фразы вроде «Как ты мог?» или «Ты меня разочаровал» — расстраивают ребенка, пугают, заставляют защищаться. Человеку нужно дать возможность сохранить достоинство и представление о себе. Наша задача сказать: «Происходит что-то не то. Я помогу разобраться».
- Действовать в одиночку, если это не ваша группа. Родитель не может управлять классом. Это зона ответственности учителя. Если школа не включается — нужно искать взрослого, который может повлиять на ситуацию изнутри.
- Подменять решение проблемы изгнанием. Иногда агрессора или жертву переводят или выгоняют. Проблема исчезает «внешне», но среда, в которой возникла травля, остается той же. И, скорее всего, найдется новая жертва.
Какие шаги должен предпринять педагог или школьная администрация, если есть подозрение на буллинг?
- Внимательно наблюдать, чтобы понять: травля это или нет. Не прятаться от проблемы, не надеяться, что «само рассосется».
- Не начинать с нравоучений. Иногда они срабатывают (с младшими школьниками), но чаще — нет. Особенно если ситуация зашла далеко.
- Признать: травля — проблема группы. Не одного «плохого» человека, а системы. Как и любое трудное поведение, травля возникает по какой-то причине. Некоторые считают, что одна из предпосылок — неумение общаться на равных, существовать в среде без иерархии. Поэтому важно научить ребенка взаимодействовать с другими.
- Понять, кто есть кто. Кто вовлечен? Кто агрессоры? Кто пострадавшие? Кто наблюдатели? В ситуации травли страдают все, просто по-разному. И каждому нужна помощь.
- Работать со всеми участниками. Не искать «виноватых», а менять правила в группе. Создавать культуру уважения, равенства, безопасности. Это долго, сложно, требует терпения — но по-другому не работает.
Насколько важно взаимодействие школы и родителей? Как его выстраивать, если школа говорит «у нас такого нет»?
Если травля происходит в школе, без учителей ничего не получится. Классом управляют педагоги и администрация, а не родители.
Поэтому, если школа говорит: «У нас такого нет», — это тревожный сигнал. И нужно решить: готовы ли вы тратить силы на переубеждение? Есть ли у вас ресурсы на борьбу с системой или вы лучше переведете своего ребенка в другую школу?
Борьба до победного конца — не всегда лучший путь. Да, у родителей часто возникает естественная реакция: «мы не сдадимся!». Но какой ценой? Если ребенок остается в токсичной среде, продолжает испытывать давление, увеличивая травматический опыт.
Почему фраза «у нас нет травли, у нас хорошие дети» — это красный флаг?
Потому что это значит: взрослые не готовы видеть. Они будут отрицать проблему, даже если она возникла у них под носом. И не будут считать, что это что-то важное, чем нужно заниматься. Они сочтут, что проблема — в вас, а не в них или в среде, которую они создают.
И опять вопрос к вам: хотите ли вы других взрослых людей переубеждать в том, что травля — это проблема, которая не зависит от того, хорошие дети или плохие. Она бывает в любых местах и случается с самыми прекрасными людьми на свете.
Как родителю, выбирающему школу или кружок, понять, что взрослые в этом месте готовы справляться с травлей, а не игнорировать ее?
Задать прямой вопрос: «Бывали ли у вас случаи травли?» И послушать, что вам говорят.
Если услышите: «У нас такого не бывает, у нас хорошие дети» — это красный флаг. А если отвечают: «У нас такого не было, но мы понимаем, что это серьезная проблема и что это может случиться» — есть шанс, что если вы придете и скажете: «кажется, это произошло», они скажут: «Да, действительно. Разберемся и расскажем, что будем делать».
Так, вы поймете, как работающие в команде люди ценностно к этому относятся. И сможете принять взвешенное решение.
Что вас больше всего трогает или злит в реакции общества на тему буллинга?
Я рада, что про травлю стали говорить: она появилась на карте проблем, и люди признали, что это ненормально и что это не проблема жертвы. Что всё меньше людей говорят: «Все через это проходили, ничего страшного». Не думают, что это «ничего такого». И все уверены, что травлю никому никогда не нужно переживать. Это очень хорошая новость.
И напоследок: что бы вы хотели, чтобы знал каждый взрослый, имеющий дело с детьми, про травлю?
- Травля — это не конфликт. Это повторяющееся агрессивное поведение при неравенстве сил.
- Травля — это не полезный опыт. Травля разрушительна. И от нее страдают все.
- Травля бывает не только у детей. Ей подвергаются и взрослые в разных пространствах (на рабочем месте, в интернете).
- Дети не перерастут травлю. Если не вмешаться, они выучат, что это хороший способ организации человеческой деятельности, и будут всюду так строить взаимоотношения.